Я не знаю, о чем он теперь будет рассказывать нам по телевизору. Но что бы ни нес с экрана, от причастности к смерти Ирины Козулиной ему не отмазаться.
И пусть медики посчитают ее смерть естественной — мы с вами видели это медленное убийство. Ирину Козулину убивали не тайно, а в режиме реального времени на глазах у десяти миллионов человек. И не одним ударом ножа, а медленно, с наслаждением маньяка, два года подряд. Ее мужа в это время заперли в замкнутом пространстве, оставив в стене дырку телеэкрана, и велели: смотри, Козулин, смотри и запоминай. Будьте уверены: он запомнит.
Убийства Захаренко, Гончара, Красовского, Завадского совершались тихо, без следов. А если следы оставались, это ничего ни для кого не значило. Нашли следы крови на месте исчезновения Гончара, установили, что кровь принадлежит пропавшему — да и приостановили следствие, потому что больше ничего выяснить не смогли. Или не захотели. Или не велено было. Но официально убийств как будто не было, потому что не было трупов. Зато было пространство для фантазий. И Лукашенко с удовольствием рассказывал — журналистам, чиновникам, трудящимся или просто себе самому, глядя в камеру, — о том, что Захаренко недавно видели в Германии, а Гончара — в Акапулько. Или в Майами. Или в Биаррице. И всегда находились те, кто в это верил. Некоторые воспринимали это вранье с надеждой: а может, они и в самом деле живы и за границей, и с ними все в порядке, и как бы хотелось, чтобы так оно и было…
Но с Ириной Козулиной все было по-другому. И если Лукашенко попытается, как всегда, изумленно захлопать глазами, развести руками и заявить, что понятия не имел о ее болезни, — ему уже никто не поверит. Потому что всего за неделю до смерти Ирины он сдуру спалился. И зачем-то признался всей стране, что прекрасно знает о ее тяжелой болезни, и пытался этой болезнью воспользоваться, как дымовой шашкой, чтобы выкурить Александра Козулина из страны, и просовывал сводки о состоянии здоровья Ирины сквозь решетку камеры, и дразнил: читай, читай, ей стало хуже, она уже не выкарабкается, что же ты тут расселся, давай, вали за бугор, там и попрощаетесь, только чтоб больше не возвращался! И этот свой хитроумный план рассказывал всей стране, и выдавал толпе тут же сочиненные скабрезные подробности:
"Насколько утром я был информирован, он отказался ее лечить. Но это семейные проблемы, отказался так отказался. Что нужно от меня, я предложил, но он отказался даже после того, как его дочери поехали и уговаривали спасти маму. А ему эта мама уже давно не надо…»
Почему Лукашенко все время пытается согласовывать слово «надо» с существительными женского рода, не может понять никто. Когда-то он говорил «нам демократия надо, когда человек работает», теперь — «мама уже давно не надо». Вероятно, он думает, что «надо» — это глагол, который спрягается. Или прилагательное, которое имеет и форму женского рода. Но пусть за это будет стыдно его школьным учителям. Остальным плевать, как он говорит, и проблема не в форме, а в том самом содержании. Такие речи допустимы разве что на деревенской завалинке после многих литров самогона. Но и там, если на тему чужих семейных проблем начнет высказываться бобыль, который уже почти пятнадцать лет живет без семьи, — засмеют. А если этот бобыль попытается поиздеваться над больным человеком — за такую болтовню будут просто бить в морду.
В прошлый понедельник, когда Ольгу Козулину задержали с плакатом «Свободу Козулину!» на площади, ее быстро отпустили и даже не составили протокол о задержании. Менты тоже смотрят телевизор. Может, даже им стало стыдно за это шипение в эфире. Стыдно и противно, как будто экран не разделяет пространство, и слюни, шипение, зависть, смрад летят прямо в лицо.
Больных жалеют и оберегают от лишних переживаний. В их присутствии не обсуждают смертельную болезнь. У них не спрашивают: «И сколько тебе осталось, что врачи говорят?» Об их недугах не рассказывают по телевизору без их согласия. О них не врут, их семьи не унижают публично, у них не отбирают близких, потому что только близкие могут продлить жизнь, отогнать болезнь — пусть не навсегда, пусть на время. Только близкие могут шептать ночью «жить без тебя не могу», только они могут поправлять подушку и тихо плакать рядом, не представляя жизни потом, в одиночестве, и продлевать угасающую жизнь, потому что нельзя уйти так просто, сначала нужно успокоить.
Александр Козулин смог бы продлить жизнь Ирины, они не отпускали бы друг друга, когда надвигается тьма, не смирялись бы, не поддались бы на уговоры смерти, не дались бы ей сонными, оказались бы сильнее этой твари. Но он не смог больше, чем знать все, метаться по промозглой камере и мечтать о том, как вернется к Ирине, и она будет еще жива, и, может быть, потом будет душное лето, будто в юности.
Ничего не сбылось. Теперь они идут по разным улицам и живут в разных городах. Город Александра обнесен колючей проволокой, там ночь, и тьма? и мат вертухаев. А Ирина перешла из тела в память и идет по городу, доброму, как колыбельная, и на улицах с ней здороваются и мать Тереза, и Кароль Войтыла, и Януш Корчак. В том городе принято быть великодушными и прощать, а в городе Козулина — помнить и мстить.
Козулин, конечно, отомстит. А Ирина, наверное, простит. Вот только о ее прощении Лукашенко не узнает, потому что никогда не попадет в тот город после смерти. С ним все будет по-другому: две лопаты навоза и ржавая ограда. И память разве что тех, кому задолжал — да не расплатился по счетам.
Ирина Халип
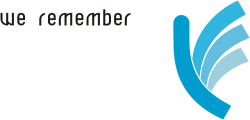
 Русский
Русский English
English